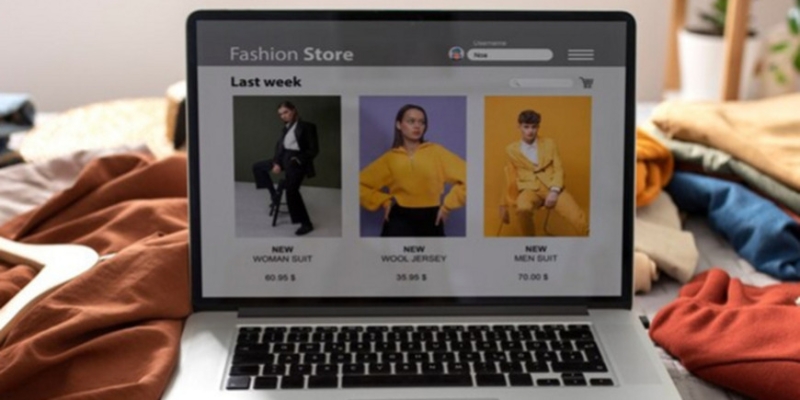Нельзя говорить ребенку: "Бог забрал маму"! - «Стиль жизни»
Марианна 18-июл, 04:57 765 Я и Красота. / Новинки.
 |
Каждый и каждая из нас является специалистом в какой-то области, и мы можем поделиться своим опытом и ощущениями с другими. Мало того, мы просто обязаны это сделать потому, что в природе действует очень простой закон «чем больше отдаешь, тем больше получаешь»..... |
Смерть близких – всегда тяжела, даже верующим людям, знающим, что это не конец. Не всегда у взрослого человека хватает сил пережить уход кого-то из родных, что же говорить о детях, которых это коснулось. Умерла от болезни мама, в катастрофе погиб любимый папа – как помочь ребенку пройти через эту тяжелую утрату? Что делать, если сами взрослые в шоковом состоянии? Нужно ли малышу идти на похороны? Что делать, если он замыкается, злится на Бога или ищет виноватых? Как жить дальше и не застрять в травме? Об этом Валерия Михайлова поговорила с психологом Натальей Владимировной Ининой, автором книги «Испытание детством».
«А ты умрешь? Как же я буду жить, если ты умрешь?»
– Наталья Владимировна, давайте начнем с того, как ребенок в принципе воспринимает смерть в малом возрасте. Она существует для него или это некая абстракция?
– Соприкосновение со смертью для маленького ребенка – это прикосновение к категориям, совершенно непонятным ему. Вообще, надо начать с того, что маленький ребенок, лет до пяти, мыслит себя сугубо эгоцентрически. Для него мир – это продолжение его самого. Вспомните, как ребенок играет в прятки. Он закрывает ладошками глаза или прячет голову за занавеску и говорит: «Я спрятался, ищите меня». Если он себя не видит, значит, он невидим.
Достаточно вспомнить замечательное наблюдение Жана Пиаже, знаменитого швейцарского психолога, которое показывало уровень эгоцентрического сознания маленького ребенка. На вопрос «Есть ли у тебя брат?» малыш отвечал: «Да, у меня есть брат». «А у твоего брата есть брат?» – спрашивал психолог. Ответ был такой: «Нет, у моего брата нет брата». Иными словами, конечно, маленькое сознание воспринимает все как продолжение себя. В этом плане он бессмертен, вечен. Равно как и все те близкие люди, которые рядом с ним находятся. Все, что разрушает это ощущение такой тотальности, гармонии, вечности, достаточно сильно эмоционально окрашено и может вызвать глубокие и долгие последствия.
Есть такой голливудский фильм, где рассказывается история женщины, страдающей от раздвоения личности. Психиатр, который с ней работал, обнаружил поразительную связь между ее болезнью и тяжелейшей травмой, пережитой ею в детстве. Умерла ее бабушка, и мама посчитала обязательным присутствие маленькой, шестилетней девочки на похоронах.
Ребенок не хотел, боялся и спрятался под домом, в подвале. Но ее обнаружили, насильно вытащили из укрытия и заставили не просто быть на похоронах бабушки, а подойти к ней, мертвой, лежащей в гробу, и ее поцеловать.
И с этого момента с ребенком начали происходить странные вещи, которые впоследствии развились в серьезное психическое нарушение. Когда психиатру удалось исцелить давнюю детскую травму, жизнь женщины изменилась, болезнь ушла, вернулась психическая целостность.
Бездумное вторжение, без опыта и понимания, в маленький и хрупкий детский мир может быть очень травматичным. Причем вроде бы взрослый человек ничего такого не делает. Например, ребенок спрашивает: «Мама, а ты умрешь?» Он еще не был на похоронах, не столкнулся с темой смерти, никого еще не потерял, но где-то что-то слышал. Ему читали сказки, и в него вошло это понимание конечности жизни, он задается внутренними вопросами, на которые родители не знают, что ответить.
Очень часто мне на консультации взрослые задают такие вопросы: «Мой маленький сын спросил меня: «А мы умрем? А как же я буду, если ты умрешь?» Что же мне ответить?» И я говорю: а что вы делаете в такой ситуации? Я, говорит, ушла от ответа.
– Разве это неправильно? Если не знаешь, что отвечать?
– Конечно, если ты не знаешь, что отвечать, лучше уйти от ответа. Потому что, когда ты начинаешь говорить: «Ну да, мы умрем, нас закопают в землю и съедят черви», – это для психики ребенка катастрофа. Ребенок воспринимает мир невероятно красочно, мышление ребенка очень конкретно. Он очень хорошо представляет себе, как это будет, и испытывает сильнейшие эмоции.
Поэтому все зависит от очень конкретной ситуации – какой ребенок, какая ситуация в семье, почему он задает этот вопрос.
– Вам ваши дети задавали такой вопрос? Что вы отвечали?
– Мой ребенок мне задал вопрос: «А ты умрешь?» Я сказала: «Я буду жить очень долго, ты уже станешь взрослым человеком, уже будешь с бородой, у тебя будут свои дети, а я буду старенькая, мне все надоест, я буду ходить с палочкой, мы сядем, договоримся, и тогда я умру». То есть я облекла ответ в шутку. Строго говоря, не столь важен был мой вербальный ответ, сколь важна интонация и настроение, с которым я говорила об этом. Потому что ребенку, который задается такими сложными внутренними вопросами, очень важно, чтобы взрослый продемонстрировал спокойное к этому отношение.
– Если взрослый уверен, то бояться нечего?
– Да: раз взрослый человек на эту тему так спокойно реагирует, значит, она нестрашная. Он задает отношение, настроение, общий абрис, связанный с этим вопросом. У ребенка нет устойчивости, нет уверенности в жизни, нет границ – он живет здесь и сейчас, в этом мгновении. И ему очень важно почувствовать через взрослого некоторое ограничение, рамки, которые задает ему взрослый человек, и эту уверенность в завтрашнем дне. Потом эти рамки начнут быть его собственными рамками. Если у родителя – тревога, страх, собственная непроработанность этих вопросов, он передает ребенку не просто какие-то слова, а именно собственную тревогу.
– Родителям часто хочется оградить от тяжелых тем – боли, смерти – своих детей: ведь даже в 12-13 лет они еще маленькие, живут в очень счастливом мире… Как вы считаете, это правильно – просто не говорить о смерти?
– Это иллюзия. Ребенок задается вопросами жизни и смерти довольно рано, просто он это делает иначе, чем взрослый – более поэтично, философично, романтично. Я бы даже сказала, более религиозно, если мы говорим о религии не как о некой конфессиональной принадлежности, а как о восприятии мироздания как сказки, когда все живое – это чем-то похоже на древнее восприятие мира.
Детский психолог и педагог Александр Лобок показал, что вечные вопросы о жизни, о смерти, о вечности, о любви присущи ребенку довольно с раннего возраста – с 6-7 лет. Эти вопросы живут в душе ребенка, но, как правило, взрослые сами боятся этих вопросов, и тем более боятся говорить о них с ребенком. В результате малыш остается одинок в этом своем размышлении. Но если взрослый способен спокойно воспринять подобный детский вопрос и открыто, но адекватно возрасту малыша, говорить с ним об этом, то ребенок испытывает облегчение, ведь он не один пытается пробиться к ответу, а рядом с ним – взрослый.
Мне кажется, такие разговоры очень важны, потому что мы таким образом задаем некое общее пространство, формируем доверие во взаимоотношениях между нами и нашими детьми. Доверие – категория сложная. Ребенок-то доверяет, но взрослый – уже не доверяет, миру не доверяет. А в результате – и собственному ребенку, считает, что это с ребенком что-то не так!
Если родитель действительно пытается увидеть мир ребенка, сложный и красивый, совсем не примитивный, тогда этот мир ему открывается. А в нем есть и жизнь, и смерть, и боль, и радость. Все, как полагается – как в сказке. Тут Баба Яга, волшебная принцесса, герой, который побеждает зло – все архетипические образы есть в нас с самого детства.
«Папа уехал очень далеко…»
– Давайте перейдем от теории к практике. В семье умирает кто-то близкий… Естественно, взрослый человек старается оградить своего ребенка от этой боли. Какие тут могут быть ошибки?
– Допустим, в семье умирает бабушка, дедушка, не дай Бог, кто-то из более молодых людей, например, папа. И очень часто взрослые выбирают такую стратегию: говорят маленькому ребенку, что папа уехал очень далеко.
Я вам дам немножко другой пример, касающийся не такой трагической истории, как смерть, хотя внутренне она может так же болезненно восприниматься. Например, у ребенка неродной отец, неродная мать. Или вообще ребенок приемный. Родители тщательно скрывают от него степень родства. Очень много историй, которые показывают, до какой степени в психотерапевтическом плане это ошибочно… Вот маленького ребенка приводят с очень простыми проблемами: он плохо запоминает информацию, не слушается. С ним психолог, как правило, рисует, и малыш через рисунки говорит о своих переживаниях. Вот он рисует темный лес, сквозь который он идет, продирается.
– А куда ты идешь?
– Я ищу маму, – говорит ребенок.
Психолог спрашивает у родителей: «Он приемный?» «А откуда вы узнали? Мы этого никому не говорим!» Дело в том, что внутри ребенок чувствует какую-то правду о тебе. Эмоционально, на уровне переживаний он чувствует, что что-то не так. А ему пытаются сказать, что все отлично.
Таких историй очень много. Я говорила со взрослыми людьми, у которых были тяжелейшие последствия такого рода ситуации: психосоматические проблемы, социофобия, тяжелые неврозы – все это наворачивается, как снежный ком.
– То есть взрослые пытаются оградить, не травмировать ребенка…
– А травмируют его еще больше! Правда, высказанная грамотно, никогда не травмирует. Ложь травмирует гораздо сильнее. Потому что ложь мы чувствуем не мозгами, а сердцем.
– Как тогда правильно говорить с маленьким ребенком о смерти?
– В разговоре о смерти религия во все времена играла особую роль, тем более с ребенком, картина мира которого сплошь мифологическая, сказочная. Можно сказать: «Папа ушел к Богу, он смотрит на тебя с небес, он молится о тебе, он твой друг, он жив, ты можешь с ним говорить». А как о смерти скажет атеист? Для него человек умер, человека больше нет, связь утрачена навсегда. А дальше можно добавить в соответствии с атеистическим восприятием мира: человек превратится в траву, червячков, бабочек, произойдет круговорот веществ в природе… Для ребенка такой ответ – это ужас! Для него катастрофа – расстаться навсегда. Для его сознания мысль о том, что мамы или папы не будет больше никогда, невыносима.
Однажды ко мне на консультацию привели удочеренную девочку, у которой умерла мама. Ребенка привели потому, что она агрессивная, не дружит с детьми, враждебна ко всем. Я смотрю на нее и понимаю: этот семилетний ребенок уже пережил такой ужас… Непонятно, был ли у нее отец, найти его невозможно. Но мама – была, и она умерла. И мужчина, который ее удочерил (удочерил изначально вместе с женой, но потом они развелись, поскольку жена не смогла принять ребенка, и девочка осталась с приемным отцом), не понимал, что делать, как ей помочь.
Когда я стала с ней разговаривать, то увидела, какая боль в ней живет. Я начала этой девочке говорить:
«Мама есть, она жива, просто она жива у Бога. И она видит тебя, она знает все о тебе, следит за тобой, молится о тебе, тебе просто надо попробовать почувствовать это, подумать об этом, поговорить с ней мысленно».
И вдруг она сказала потрясающую вещь: «Я не могу маму услышать, потому что, когда я пытаюсь это делать, мне мешают». «Кто мешает?» «Дети». Вот откуда агрессия по отношению к детям! Она учится в учебном заведении на пансионе. Понятно, что здесь есть обида: ведь у этих детей есть родители, а у нее нет. Но при этом она себе так объясняет: «Они мешают мне услышать мою маму».
Мы с ней договорились о том, что она будет каждый день с мамой разговаривать, писать ей письма, то есть вернет ее себе.
«Как ты можешь обижаться на маму?!»
– Наверняка в ребенке живет и чувство несправедливости: почему у меня отняли маму? Даже если ему говорят: «Боженька забрал маму», все равно это кажется несправедливым – почему забрал? Я же молился, а мама умерла…
– «Бог забрал маму» – это плохая фраза, нельзя говорить так ребенку ни в коем случае! Даже сами себе мы так не говорим, но – «Господь попустил». Ребенку мы говорим, что мама болела, и она с болезнью не справилась, поэтому ушла.
Обида на родителя у ребенка все равно будет. Бабушки и дедушки – всегда более взрослые, пожилые, их уход воспринимается ребенком более мягко, а когда уходит родитель, молодой человек, там ведь огромная обида на родителя. Как говорила та девочка: «Почему мама меня бросила?» Я ей сказала: «Мама тебя не бросила, она не смогла победить болезнь. Она просто не сумела. Болезнь оказалась сильнее. Она не бросила тебя, она рядом с тобой не телом, а сердцем и душой, любовью своей».
То есть здесь надо максимально уйти от темы, связанной с обидой. Хотя надо понимать, что у ребенка обязательно эта обида будет. Нельзя говорить: «Как ты можешь обижаться на маму, папу, Бога?» Что значит «как ты можешь»? Он обижается, значит, может это делать!
Когда ребенок находится в тяжелейшей травме, мы не имеем права ее усугублять чувством вины. Говоря «Как ты можешь обижаться!», мы ребенка заталкиваем в это чувство вины. А ему просто больно, он сильно тоскует, хочет чувствовать близкого человека, слышать его запах, голос, но это ведь совсем другое. Об этом и Кюблер-Росс, и Фредерика де Грааф пишут: сначала – отрицание, потом гнев, обида, потом уныние и торможение, потом уже принятие. Это все этапы переживания горя.
– Сколько эти стадии могут времени занимать? И у ребенка они такие же, как и у взрослого?
– Нет, у ребенка все происходит значительно быстрее! Просто это зависит от того, как взрослый человек с ним взаимодействует. Грубо говоря, любому родителю надо просто не полениться и взять учебник по возрастной психологии, посмотреть, что может ребенок в три года, в пять, в десять, понять уровень мышления, восприятия в разном возрасте. Неслучайно геометрию начинают преподавать в 7-м классе, потому что абстрактное мышление формируется только к этому времени.
А до того мышление у ребенка конкретное. Поэтому разговор должен быть таким же. Вот папа или мама – с тобой, с ними можно говорить, писать письма. Он спросит: «А они мне могут написать?» «Нет, они тебе не могут написать, они могут сказать, а ты можешь услышать». И ребенок услышит, уверяю вас.
Понимаете, ребенку важнее сохраниться, нежели разрушиться. Если мы питаем все то, что его сохраняет, он хватается за эту соломинку. «Все равно мама с тобой, она так тебя любит, она о тебе все время молится, теперь у тебя такой невероятный защитник на небесах». Он скажет: «Не хочу, чтобы она была на небесах, хочу, чтобы она была здесь!» А мы продолжаем гнуть свою линию: «Да, и я хочу, чтобы она была здесь. Но ведь нет ее здесь. Поэтому давай посмотрим туда».
Один мальчик мне рассказал про смерть любимой бабушки невероятные, пронзительные слова, которые я на всю жизнь запомнила.
Он сказал: «Я так плакал, когда ее не стало, я так ее любил, и вдруг я увидел сон, как она сидит на облаке, смотрит на меня оттуда и улыбается». Вот что это? Господь ему послал такой сон? Или его душа пыталась исцелиться? Я думаю, и то, и другое.
Потому что психика – это в каком-то плане ворота в другой мир. Господь стучится с той стороны, а мы с этой открываем дверь. Здесь надо дать право ребенку обидеться, злиться, и не говорить ему: зачем ты это делаешь? Надо говорить ему: «Да, и я это чувствую, но все-таки… давай посмотрим теперь с другой стороны». То есть нужно помочь ребенку найти опору в этом непереносимом положении. Потому что ребенок эти опоры ищет, но часто найти их сам не может.
– Какие тут могут быть ритуалы? Допустим, что-то связанное с личными вещами мамы или бабушки, с тем, что мама любила?..
– Да, конечно, можно взять любимую чашку бабушки, сказать: «Вот бабушка тебе оставила эту чашку, чтобы теперь, когда ты пьешь из нее чай, она всегда была бы с тобой. Вот часы, которые тебе подарила мама, когда смотришь на них, можешь всегда знать, что в этих часах мамина любовь тикает». Ребенку нужны эти опорные точки! Я считаю, это очень важная линия, она помогает ребенку привыкнуть, примириться. В принципе ребенок принимает изменения намного быстрее, чем взрослый человек – тотальность психики его спасает.
– Как быть с походом на кладбище? С похоронами?
– Я здесь не могу давать никаких жестких рекомендаций. Я могу поделиться своим опытом, своими наблюдениями, человеческими и профессиональными. Мне кажется, если ребенок хочет пойти, прямо говорит об этом – это ведь его зов души – его нельзя не брать с собой. Если он говорит: «Я хочу!», значит, что-то в нем происходит, и это всегда тайна детской души.
– Допустим, ребенок очень хочет пойти с нами на могилу бабушки, уже после похорон. Вот он приходит к могиле и спрашивает: «А где бабушка?» Что же сказать ему: «Бабушка в земле лежит»? Это же ужас. Но как тогда правильно ответить?
– Это действительно ужас! Можно сказать иначе: «Бабушка над нами. Она с Богом, смотрит на тебя с небес. А тут – особое место, место памяти, мы приходим сюда все вместе, летом сажаем цветы, ухаживаем за этим местом. Она смотрит с неба и улыбается, радуется, что мы пришли». Постепенно ребенок начнет осознавать происходящее, но это должно происходить постепенно, естественно.
Что касается похорон, надо понимать, что это будет серьезное испытание для ребенка. Он будет очень пугаться мертвого тела, которое совершенно не похоже на живое. Не знаю: стоит ли подвергать нежную психику ребенка таким испытаниям? Но если он хочет поехать со взрослыми, вернее, не хочет оставаться один без родных, то, возможно, стоит взять какого-то помощника, который подстрахует ребенка, возьмет его на себя в случае чего. Надо очень внимательно продумать этот момент.
Хотя это очень трудно, когда мы теряем близкого человека. Мы сами находимся в горе, а тут еще и дети. Но надо понимать, что мы-то взрослые, у нас значительно больше возможностей совладать с собой. А ребенок – абсолютно оголенное, маленькое и беззащитное существо! Если мы не сможем позаботиться о нем, о нем в принципе больше некому позаботиться. Модель переживания задают взрослые
– Действительно, а как же быть, если взрослый человек сам находится в шоковом состоянии, не может прийти в себя после смерти, допустим, своей жены или своего мужа… А надо еще и ребенка поддерживать, ему объяснять. Но он не может, ему трудно с собой справиться. Что делать?
– Конечно, в таком случае этот груз должен взять на себя кто-то из близких людей. Близким родственникам надо понять, что от их включенности, от их эмоционального неравнодушия и милосердия зависит будущее ребенка. Не больше и не меньше. Не дай Бог, папа умер, мама, к сожалению, в таких случаях нередко находится в невменяемом состоянии – и вполне имеет на это право. Значит, ребенком должен заняться кто-то из близких.
– Но ребенок не должен же в такой ситуации видеть маму в невменяемом состоянии?
– Конечно, не должен. Но ведь и она же не находится в таком состоянии постоянно, и близкие должны помочь ей выйти из него.
Нередко ребенка предпочитают увозить, забирать куда-то, к бабушке, например. Но мне кажется, что этого нельзя делать, нельзя ребенка куда-то увозить даже в таком случае. Иначе он будет себя чувствовать совершенно оторванным.
Да, мама грустит, плачет, но ведь и он тоже тоскует, ему тоже плохо. Ребенок с мамой связан, и они вместе должны пережить уход близкого человека. Если она обнимет его, они будут плакать вместе – это хорошо. А бывает наоборот: она плачет в одном углу, а он – в другом, не дай Бог, в другой комнате или даже в другой квартире. Модель переживания все равно задают взрослые люди: либо горе переживается вместе, либо – поодиночке, все разбегаются по разным углам. Горе либо объединяет, если перед его лицом люди вместе, либо разделяет, если каждый справляется с ним сам.
– Бывает, что человеку надо побыть одному какое-то время…
– Конечно! Речь идет не о том, что он должен тотально держать в объятьях другого.
Представим вполне конкретную ситуацию. Мама в тяжелейшем состоянии от потери супруга. Ребенка решают увезти в деревню к бабушке, в результате мы получаем полный разрыв. Его нельзя увозить в деревню к бабушке! Его можно увезти на день-два куда-то, а потом привезти. Когда мы видим, что мама немножко пришла в себя, надо ей сказать: ты не можешь совсем расслабиться, у тебя ребенок, возьми себя в руки. Да, твой любимый человек ушел, но остался ведь твой ребенок. Это про жизнь, это важно и для нее. Это даст ей мобилизацию и внутреннюю силу просто собраться. И тогда этого ребенка надо привести домой, в этот момент они с мамой могут поплакать вместе, обняться. Вот эта точка встречи! Она обязательно должна быть. А ее, как правило, не бывает.
Я не так давно консультировала одного мужчину, который пережил смерть жены. Пришел с совершенно четким запросом: дочери 16 лет, и она совершенно отбилась от рук, абсолютно отдельно существует. А ее мать умерла 1,5 года назад. Первый вопрос, который я задала: как вы пережили смерть жены? И по рассказу увидела, что он пережил ее совершенно отдельно от дочери. Первое, что я сказала: вы должны с дочерью поговорить об уходе ее мамы, потому что она одна в этом горе, и вы один.
Не искать виноватых, а осознать свою боль
– В одной из статей была описана очень тяжелая ситуация, когда у женщины погиб любимый муж – разбился в авиакатастрофе. А вместо него должен был полететь его брат, но не полетел. И эта женщина в своем страшном горе всю вину переложила на брата и ненавидела его, и дети стали свидетелями этого. Чем страшна такая ситуация?
– Давайте пойдем от печки. Что порождает такого рода реакции? Представим себе ситуацию, когда произошло то, что вы сказали. Жена знала, что этим самолетом полетит брат мужа, более далекий ей человек, а полетел ее муж. И разбился. Я уже говорила про стадии переживания горя: сначала отрицание, потом – обида и гнев. Она находится в этот момент в переходе от отрицания к гневу. Она должна кого-то в этом горе обвинить. Кого угодно! Кто-то должен за это заплатить и ответить. Это, к сожалению, часто и вполне естественно. Неслучайно эти стадии описаны, их проходит практически любой человек, столкнувшийся с трагедией потери близкого человека. И это нормально, но застревать в них – ненормально, а многие застревают и застревают на годы, а то и на всю жизнь.
– Что заставляет застревать?
– Нас удерживает в них наше эго, нам жалко себя, нам грустно, мы не соглашаемся с произошедшим, а следовательно, надо найти виноватых, крайних. Но этот путь тупиковый – эго призвано кружиться вокруг себя, вокруг собственной боли, собственной потери, оно не дает вырваться из плена эгоцентризма. Единственный выход состоит в том, что немного забыть о себе, о своей боли, своей потере. Найти в себе мужество признать, что нет виноватых в смерти близкого. Произошедшее – тайна, требующая открытости, доверия. А на это способна только личность в нас, а вовсе не эго. Личность способна подумать о других, о том, что они чувствуют, что им трудно. И этот рывок спасителен для человека, он преобразует горе в мудрость, боль – в сострадание, печаль – в надежду.
Если вернуться к женщине, то ведь с ней ее ребенок или ее дети, которые тоже потеряли близкого человека – отца. Более того, она своим поведением задает определенный способ отношения к происходящему. Кто знает, может быть, через много лет и они начнут обвинять других в том, что произойдет с ними или их близкими. Можно ли назвать такое отношение христианским? Очевидно – нет.
А что же такое, на самом деле, христианский путь, почему он так труден? Потому что нам приходится выбирать не легкую дорогу, а порой трудную, не естественные реакции, а противоестественные, точнее, надъестественные.
Нам хочется погрузиться в свою боль, ведь мы потеряли близкого, родного человека, а нам приходится думать о других, об их боли, об их страдании… Это очень трудно, но это и есть христианство.
Мы должны взять себя за шкирку, вытащить из обиды и просто очнуться. И понять: я же просто безумно страдаю, мне безумно больно, и никто в этом не виноват. Если дети увидят просто мою боль, а не попытку кого-то обвинить, для них это будет куда более здоровая ситуация, она будет правильной. Они тоже смогут почувствовать свою боль, оплакать ее, пройти ее насквозь и выйти. Тогда, обретя этот опыт встречи с собственной болью и выхода из нее, они будут чувствовать и боль другого человека. И станут сострадающими, милосердными людьми. Если они застрянут в этой боли, скажут, что кто-то виноват, то не смогут чувствовать боль других.
– Вы упомянули христианское отношение к боли, христианский путь. А как вы относитесь к словам «вы же христиане, зачем так горевать? Почему вы так плачете?» – вот к такой попытке утешить, встряхнуть горюющего человека?
– Это ужасная фраза, на мой взгляд, абсолютно безжалостная! Понимаете, Христос плакал над Лазарем. Бог плакал, как человек, потеряв друга! И когда человек теряет близкого, а ему говорят: «Ты же знаешь, что он не умер, перестань так убиваться», – это, простите, – невротическая религиозность. Она формальная и внешняя, а не внутренняя. Перед нами же человек, а не робот, он не тотально духовное существо. Он переживает потерю телом, мыслями, эмоциями…
Когда ушла моя любимая тетушка, которая была мне практически второй мамой, я много лет подряд не могла удалить ее номер из моего мобильного телефона. Будучи совершенно взрослым человеком! Это была глубокая тоска, и детская, и взрослая, потому что тетя была огромной фигурой в моей жизни, научившей меня любить. Ее потеря для меня не уйдет никогда в эмоциональном плане. Но это не значит, будто я не понимаю, что она с Богом. Я прошу ее помощи, когда мне плохо. Ее и мамы.
Мне кажется, что, когда перед нами человек, утративший близкого, по-настоящему, по-христиански будет просто обнять его и плакать вместе с ним. Разделить его боль. Как раз это – значительно более христианский жест, когда ты можешь быть с человеком в его боли. Взять часть его боли на себя, а не рассказывать ему, что все замечательно или как надо правильно переживать.
– Как правило, люди, которые так говорят, сами не переживали ничего подобного, верно?
– Конечно. Это абсолютно теоретические вещи.
«Какое счастье, что удалось попрощаться»
– Смерть близкого бывает внезапной, бывает, что он уходит постепенно, и взрослые знают о скорой смерти. Как сказать об этом детям? Бывают ситуации, когда родитель боится сказать правду и приводит их не прощаться, допустим, с папой в больницу, а просто проведать его. И хотя каждый участник этой последней встречи понимает, что она последняя, но это не проговаривается. Это неправильно?
– Об этом потрясающе написала Фредерика де Грааф в книжке «Разлуки не будет». Эту книжку нужно почитать всем, ведь все мы так или иначе столкнемся со смертью в нашей семье. И мы должны знать, как с этим быть. Я полностью согласна со всем тем, о чем она там пишет. Она работает в московском хосписе 12 лет, а до этого у нее был огромный опыт работы в лондонском хосписе. Так вот она говорит, что прощание – это чрезвычайно важно. Ребенок имеет возможность увидеть живого родителя, не в гробу, не это тело, которое не похоже на твоего близкого человека, а живого.
– Даже если он в тяжелом состоянии?
– Да. Сейчас появился закон, позволяющий родным пройти в реанимацию, раньше же не пускали. Это ужасно, когда уходит человек, а ты не можешь попрощаться. Хотя исторически, традиционно всегда прощание было частью жизни. Когда человек уходил, съезжались все родственники, подходили к нему, брали его за руку, плакали, какие-то слова друг другу говорили. Это невероятно важный момент.
Есть такая книжка протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти», потрясающая работа, и он там пишет ровно то же самое. Он пишет, что в культурном плане традиционно смерть была внутри жизни. Только в последние времена появился страх смерти, когда произошла потеря связи с Богом, а религия стала частным делом каждого, произошло такое обесценивание сакрального пространства, предельных переживаний человеческой жизни. В результате смерть происходит за закрытыми дверями – в больнице, в реанимации, там, куда никого не пускают. И человек уходит один. Это просто катастрофа. От очень многих людей я слышу: «Какое счастье, что удалось попрощаться!» и «Какая это боль, что я не смог проститься, не увидел своего любимого перед уходом». Это всегда одна и та же фраза.
– Но если вспомнить мой вопрос о детях, которых привели к отцу, но не сказали, что он умирает. Ведь дети все равно увидели отца, это не одно и то же?
– Если бы им сказали, что они идут прощаться, они бы по-другому себя вели: позволили бы себе чувствовать то, что и так чувствовали. Взяли бы его за руку, плакали бы рядом с ним, там происходила бы тайна встречи. Нельзя человека лишать этого мгновения. Отдельная тема – вести ли маленьких детей. Тут все зависит от того, какой ребенок. Строго говоря, это ответственность родителя. Бывают дети, которых и не стоит вести.
– Какие это?
– Очень чувствительные, впечатлительные, повышенной ранимости. Но если ребенок нормальный, крепенький, здоровый, конечно, когда папа и мама не в трубках, не на последней стадии болезни, его нужно привести попрощаться. Буквально недавно об этом Фредерика рассказывала. Она рассказывала, как уходил один очень мужественный военный человек. Редко кто так уходит. Мучительно – у него была онкология легких, он тяжело дышал, целых два месяца мог спать только сидя – и никаких стонов, жалоб, капризов. Он попросил, чтобы пришла семья, его дети и жена, и сказал им: «Дорогие мои, скоро меня здесь не будет, вы должны держаться, быть вместе. Я вас очень люблю». Фредерика рассказывала просто в превосходных степенях об этом уходе. Она так и сказала: он ушел, как воин. И такой уход для детей – это фантастический пример и жизни, и смерти.
Но когда детям начинают говорить: «Пойдемте, папу навестим, он неважно себя чувствует», а при этом он умирает, то дети чувствуют ложь, а ложь всегда разъединяет! Взрослые люди, вспоминая о своем детстве, когда теряли своих близких, говорят: «Я чувствовал, что он уйдет. У меня был сон, я просто знал…» Значит, так оно и есть.
– Когда родители недоговаривают, это рождает недоверие?
– Это, прежде всего, рождает чувство глубокого одиночества. Я в своем горе один. А дальше – не недоверие, а отчужденность. Закрывается человек. Ведь ему врут о самом главном. И он закрывается. Если это ребенок, он захлопывается просто. Как переживают подростки
– Наталья Владимировна, а как подростки реагируют на смерть близких, они ведь уже не маленькие дети? Как с ними говорить об этом?
– Надо исходить вообще из того, что такое подростковый мир. Это мир поиска себя, поиска своей идентичности. Потому там много максимализма, иногда нигилизма, борьбы с миром взрослых, с родителями. Крайне значим для подростка социальный контекст, ровесники. Именно с ними и обсуждаются подобные переживания, реже со взрослыми людьми. Но это часто связано с тем, что взрослым не удалось выстроить дружественные, теплые отношения со своими подросшими детьми.
Вот конкретный пример. В семье трое детей. Средний ребенок ушел из жизни – рак. Осталась старшая сестра, подросток. Одно дело – хоронить маму и папу, а другое – хоронить своего ребенка. Это просто невозможно пережить, для родителя это невыносимо! Мама старалась держаться изо всех сил, но потеря ребенка может опрокинуть даже очень сильную женщину. Папа совершенно рухнул эмоционально. В результате эта девочка осталась наедине сама с собой. Насколько я могу судить, она до сих пор так и не вышла из этого переживания. В ней застряло это переживание встречи со смертью, хотя прошло почти 10 лет. У нее до сих пор проблемы – в общении, с подавлением эмоций. Она занимается всякими экстремальными видами спорта, а это всегда край между жизнью и смертью.
– Что такому человеку дает экстрим, какую потребность закрывает?
– Я так понимаю, это вытесненная боль: она пытается как-то компенсировать ее, почувствовать себя на краю.
Если подросток так переживает эту травму или потерю – с друзьями, а очень часто – и замкнувшись в самом себе, не оплакав, не проговорив это с родителями – между ним и родителями возникает мощный эмоциональный барьер. Потому что самое главное, что с ними произошло, они пережили врозь. Кроме того, это останется непрожитой травмой, вытесненной в бессознательное. А значит, это бомба замедленного действия, механизм которой будет тикать-тикать и готов взорваться в любой момент. Там могут быть самые разные последствия – эмоциональные «схлопывания», социальные проблемы, вплоть до психосоматики, фобий и т.п.
– Что касается психосоматики: была такая тяжелая история, когда на глазах мальчика убили его отца, и через несколько месяцев этот парень заболевает онкологией…
– Да, это подавленная невыносимая боль. Поэтому переживания ребенок в любом возрасте должен проговорить со взрослыми, с близкими людьми.
– Наталья Владимировна, если тема смерти так тяжела даже для маленьких детей, почему же в подростковом возрасте ребята так легко относятся к теме самоубийства? Если в той же школе кто-то спрыгнул с крыши, почему это считается геройством? Почему это так легко воспринимается? Это смежная тема, но все же…
– Надо разделить глубинную реакцию и демонстрируемую реакцию. Есть такие вещи страшные, как мода. Понимаете? Мода на самоубийство. В интернете много таких историй, от которых идут волны обсуждений. Об этом ведь все пишут, обмусоливают, и вот уже этот бедный человек, который покончил с собой, становится героем. Это же не он герой, а его делают героем!
Недавно мне один мальчик рассказывал, что он пил таблетки, в общем, практически играя с жизнью и смертью. А ситуация была совершенно не про таблетки. У него абсолютно не было контакта с родителями. Выяснилось, что это был его безмолвный крик: обратите на меня внимание! Он играл на этом пределе, и такая суицидальная «игра» с таблетками была просто воплем по отношению к родителям, которые его не видели и не слышали.
Мальчик выпивал большие дозы антидепрессантов, которые были дома, при этом скорую никто не вызывал. Это как можно не заметить? У тебя был полный пузырек антидепрессантов, и вдруг у тебя полпузырька. Родитель вытесняет информацию о том, что у него ополовинился пузырек. Страшно же думать об этом. А то, что ребенок выпил, не так страшно. Так это и происходит: «Мне моя боль важнее, чем боль близкого, вот она-то меня и останавливает. Я ее упакую в прекрасную форму, скажу, что боюсь травмировать своего ребенка вопросом – не ты ли глотаешь таблетки?»
Если говорить глубоко об этой проблеме, я думаю, подростковый суицид – это не про смерть. Это про тяжелейшее несовпадение с собственной жизнью.
– Это всегда связано с недопониманием родителей?
– Не только… Первая любовь, неслучившаяся, предательство близкого друга, какой-то бойкот объявили, весь класс не разговаривает. Это растерянность перед жизнью, из которой подросток находит такой выход… Если спросить его: «Ты понимаешь, что самоубийство – это конец?», он же не ответит. Потому что для него это немножко игра: ах, я умру, пусть им хуже будет!
– А как тогда с подростком говорить на эту тему?
– Это совершенно отдельная тема. С ребенком не об этом надо говорить, а о том, как он живет. О его жизни! Что с ним происходит, что он любит, как к нему относятся те, кто рядом.
Я говорила с одной женщиной, которую отец бил нещадно все ее детство и в подростковом возрасте. Она призналась, что два года была на краю суицида. Говорила: «Когда мне стукнуло 14, и он стал меня так же, как будто ребенка, лупить, это было не столько больно, сколько унизительно. Я стала думать о суициде». Это шаг отчаяния, конечно.
Я не говорю об этих страшных вещах и субкультурах, которые просто зомбируют сознание детей, где слово «смерть» произносится как слова «конфета, театр, прогулка». Это как бы такое приключение. «Давайте, мы в это приключение поиграем». Это касается этих страшных вещей, связанных с интернет-субкультурами, квази-реальностями, в которых происходит что-то совершенно жуткое…
Но в любом случае с подростком надо говорить, интересоваться им и его жизнью.
Когда вести к психологу
– В каком случае нужно вести ребенка, столкнувшегося со смертью близкого человека, к психологу?
– На мой взгляд, учитывая то, что сейчас происходит с обществом – а здоровым его никак сегодня нельзя назвать – поход обычного, здорового ребенка к психологу раз в год, на мой взгляд, это абсолютная норма. Как раньше ввели понятие диспансеризации, так, на мой взгляд, нужно поступить и с психологическим консультированием: тут тоже нужна своя диспансеризация. Родители могут что-то не заметить, могут ошибочно считать, что все делают правильно, и часто приходят с ребенком к психологу, когда ситуация уже практически необратима.
Так что абсолютно нормально раз в год прийти на консультацию, психолог вам скажет: «Все в порядке, расслабьтесь» или подскажет, что можно было бы подкорректировать. Ведь ребенок очень часто сам не может сформулировать, что его волнует, а в рисунках и каких-то проективных диагностических методиках выплывает скрытая проблема. И с любым сорняком легче бороться, пока он маленький, чем когда он уже разросся во все стороны и начал цвести пышным цветом.
Когда в семье есть такая травма, как тяжелая болезнь или смерть кого-либо из близких, очень значимых для ребенка людей, конечно, бессмысленно сразу же вести ребенка к психологу. Нужно создать такую атмосферу доверия и разделенного горя, которое переживается близкими вместе.
Когда люди могут плакать друг другу. Когда они могут разделить друг с другом то, что произошло, потому что это произошло в их общей семье. Вот когда этот этап уже пройден, очень разумно было бы повести ребенка на разовую консультацию, чтобы психолог сказал: «Вы справились с наименьшими для ребенка потерями» или «Походите несколько раз, чтобы помочь нейтрализовать и завершить те вытесненные в бессознательное травмы, которые неочевидны в поведении и речи ребенка».
– Давайте поясним: переживание вытесняется в область бессознательного тогда, когда с ним не может справиться сознание?
– Совершенно верно.
– В течение какого времени это происходит?
– Я бы сказала так: ребенок как психически целостное существо как раз ничего не хочет вытеснять, да и не имеет опыта вытеснения в бессознательное. Наоборот, он довольно быстро и открыто задает какие-то вопросы, говорит родителям, например: «Я тебя ненавижу, мама!» Это высокая степень злости по какому-то поводу. Что обычно отвечают на такое родители? Кричат, прерывают, бьют по губам. Что это такое? Это запрет.
Ребенок еще пока вненравственное существо, он говорит вненравственные вещи. Мы сначала должны выяснить, что вызвало такую реакцию. Потом – сказать: «Давай договоримся. «Ненавижу» – это очень тяжелое слово, сильное. Нельзя ненавидеть помидоры, кошку», и так постепенно мы вводим ребенка в некий нравственный и культурный контекст.
Если же мы учим его блокировать и вытеснять переживания, эмоции, вначале он будет сопротивляться этому. А когда он научится это делать, то будет это делать автоматически и мгновенно. Как только столкнется с болью. Поэтому, если такой механизм вытеснения запущен, без работы с психологом вернуть все вспять невозможно. Человек уже потерял контакт со своей душой, можно сказать.
Недавно я прочитала интервью одного очень известного юмориста, крайне популярного. О нем довольно много писалось в разных СМИ, что он позволяет себе шутки там, где они совершенно неуместны: не чувствует грани, где шутка – это радостная вещь, а где это тотальная неуместность, даже оскорбительная. Он сказал потрясающую вещь в этом интервью: «Люди, называющие себя психологами, считают, что склонность все время шутить – это невротическая защита от боли, которая живет внутри. Но я с этим не согласен!» И дальше он приводит такой пример, видимо, из личного опыта: «Когда я был на похоронах, меня спросили: “Чего ты такой грустный?”» – сказал он и посмеялся над этим анекдотическим сюжетом из своей жизни.
Конечно, из этого текста можно сделать вывод, что он – человек глубоко депрессивный. И он об этом прямо говорит: «Когда я не шучу, я проваливаюсь в колоссальную степень уныния и депрессии. Поэтому я все время шучу». Это его выбор. Его способ его совладания с самим собой. Но совершенно очевидно, что этот человек, на самом деле, глубинно и тяжело травмирован чем-то.
И если он стоит в позиции, что шутить можно всегда, везде и по любому поводу, никакой психолог ему не поможет, потому что у него даже нет запроса на такую помощь. Но думаю, рано или поздно его жизнь подтолкнет к пониманию, что не во всех ситуациях шутка спасает и помогает. Что нужно иногда повернуться к боли, к горю лицом и обрести намного больше, чем – отвернувшись от боли и горя.
– Повернуться к боли лицом – это единственно верный способ пройти через нее?
– Как это ни страшно звучит, да. Потому что фраза «Помни о смерти» – она ведь, на самом деле, про жизнь. Это правильно, когда при потере в семье кого-то близкого мы переживаем эту утрату вместе, когда этот человек остается в нашей семье, его фотография висит на стене, мы помним о нем, мы живем, не утратив связи с этим человеком. Как у древних христиан на кладбище было написано «такая-то жива, такой-то жив»: первая мысль при прочтении этой надписи – о встрече этого человека со Христом, радость о нем. Если это есть в семье, она выходит на другой уровень глубины взаимопонимания. Здоровья прибавляется в семье. А также – теплоты, поддержки, любви. И наоборот, если в семье начинают все молчать, отшучиваться, блокировать эту тему, плакать по углам, – это серьезный удар по семье.
Жить дальше: мачехи и отчимы
– Предположим, что прошло уже какое-то время со смерти близкого человека, и надо жить дальше. Какие тут бывают ошибки, что можно сделать не так?
– Это очень тонкая тема. Факт нашего родительства заключается не в том, что мы уже родители. Мы становимся родителями все время, это процесс, а не факт! Мы можем в какой-то момент быть родителями, а в какой-то можем и не быть, являясь при этом ими по юридическим параметрам. Это требует огромной внутренней чуткости.
Бывает так: ушел человек в семье, ребенок пережил эту потерю, справился с этим, не вытеснил, он живет дальше. Есть фотографии кого-то из ушедших родителей. А родитель – еще не справился с потерей, он еще там. У меня был такой опыт, очень тяжелый. Когда умер муж, любимый невероятно, осталось двое детей-подростков, младшего и старшего подросткового возраста. И жена, живя за этим мужем, как за каменной стеной, оказавшись без него, превращается в ребенка, которого… нянчат ее собственные дети.
– А откуда у них ресурс на это?
– У них нет ресурса, но у них нет и выхода! И это удвоение потери. Ты потерял отца и потерял мать. Она жива, но она настолько провалилась в свое горе, что не ест, не моется, не выходит из комнаты, не работает, ни с кем не разговаривает. Они ее кормят, моют, пытаются вернуть ее к жизни. И это чудовищная ситуация… Не хочется здесь упрекать кого-то – у каждого есть свой предел прочности. Но важно помнить, что предел прочности есть не только у нас, но и у наших детей, и не перекладывать на них свой груз. В этом наша взрослая ответственность перед ними.
– Взрослый должен оставаться взрослым всегда, чтоб быть опорой своим детям?
– Конечно. Ребенок не должен взрослеть так, скачком.
– Может быть такое, что умер папа или мама, и второй супруг пытается заместить их, стать для ребенка и мамой, и папой? И насколько это правильно?
– Здесь надо все-таки идти от ребенка. Если мы идем от ребенка, мы никогда не ошибемся. Если нам кажется, что ему нужна мама, что он тоскует, то надо о ней говорить. А если не знаем, тоскует или нет, и начинаем говорить, то мы бередим эту рану, пытаемся не дать ему успокоиться, напоминаем ему все время об этом. И наоборот, бывает, ему хочется говорить, вспоминать об этом, а нам кажется, что уже хватит, время прошло.
Все, что мы думаем о другом – это наши фантазии. О другом надо спрашивать у другого, надо быть чутким и внимательным к собственным детям. Они сами дадут понять, что им нужно.
– Часто бывает: мама ушла, а на ее место через какое-то время приходит мачеха. Какие здесь «подводные камни»?
– Я сталкивалась с ситуацией подобного рода в своей практике. Мама умерла, и спустя 1,5 года мужчина, вдовец, женился на женщине, которая стала изо всех сил пытаться заменить его детям мать. Быть хорошей и внимательной, все делать для них. А дети – бунтовали! Отец говорил: «Ну как же так! Она так старается, а вы ее не принимаете. Такой эгоизм!»
А когда они пришли на консультацию, мы стали разговаривать с ней и с ним, оказалось, что она на самом деле детей в упор не видит. Главный, глубинный мотив – быть хорошей женой своему мужу, чтобы он был доволен. И дети это чувствуют. Они потеряли мать, которая была их родной, на них сориентированной, о них думающей, и приобрели мачеху, которая, по сути, выслуживалась перед мужем.
– Как быть мачехе в такой ситуации? Она же не может заменить маму, но вместе с тем не может не заботиться о детях – они одна семья!
– И не должна заменить, в том-то и дело! Она никогда не сможет заменить маму. Да, естественно, надо иметь очень большое терпение, чуткость, ведь мачеха этих детей не рожала и не воспитывала, не проводила с ними бессонные ночи, когда они были маленькими. Но у нее есть возможность полюбить их. А у них – возможность ее полюбить, не как маму, а как тетю Машу, например, понимаете? Жену нашего папы. Тетя Маша должна стать старшим другом, человеком, которому они могут доверять.
– Но сравнения все равно неизбежны…
– Когда ребенок говорит: «А вот моя мама так не делала», мачеха должна сказать: «А как делала твоя мама? Я ведь не мама твоя. Я не знаю, смогу ли я сделать, как твоя мама. Наверное, не смогу. Как бы нам договориться, чтобы ты приняла то, что я делаю?» Мне кажется, тут ключевое слово – уважение: уважение к этим детям, к их обидам, к их нетерпимости и злости. Это неизбежно, потому что им больно видеть папу рядом с другой женщиной. Им больно видеть, что из маминой тарелки ест какая-то другая тетя. Это не про тетю. Это про их боль. Когда она поймет, что их выплески адресованы не лично ей, что это просто про ту боль, которая в них есть, ей не придется больше обороняться. Она не атакует их в ответ на их претензии к ней, она говорит: «Я понимаю вас, это очень трудно. Но ведь нам нужно что-то делать дальше, жить вместе».
– Некоторые люди чуть ли не спрашивают разрешения у своих детей: «А можно, я женюсь на этой женщине?» или «Можно, я выйду замуж за этого мужчину?» Так стоит делать?
– Мне кажется, нет. Тут получается, что на детей перекладывается ответственность за такой шаг. Это не значит, что не нужно с детьми говорить об этом. Но когда мы упаковываем это в форму разрешения, это не очень хорошая идея. Мы путаем роли: превращаем детей в родителей, а сами становимся детьми. Можно было бы сказать: «Я никогда не забуду маму. Я ее всегда буду любить, но прошло достаточно много времени, мне трудно одному. Жизнь требует решения кучи проблем. Мне сложно…»
Обычно же надо ребенка приучать к этой женщине, она должна приходить в дом иногда, с ней можно поехать отдыхать. Дети же не дураки. Они все чувствуют, понимают, что папа собирается на ней жениться. Она еще не на мамином месте. Она просто гость. И им так проще к ней пристроиться, потому что в таком положении нет обязательств. Они потихонечку привыкают.
Если она ведет себя правильно, деликатно, осторожно, но в то же время твердо, тогда постепенно возникает некая атмосфера контакта. Тогда уже отец может сказать: «Ребята, так обстоят дела, мама – это мама, она всегда будет здесь, это всегда ее дом» – то есть надо дать почувствовать, что никто никого ни на кого не меняет. – «Но жизнь требует какого-то движения, поэтому вот – Лена. Я хочу на ней жениться. Что скажете?» То есть мы не пытаемся им предложить принять решение, мы принимаем решение сами, но даем понять, что нам важно, что дети об этом думают. Это тонкая разница, но она есть.
– Случается, дети сами предлагают овдовевшему отцу жениться или овдовевшей маме выйти замуж…
– Мне кажется, это всегда совершенно удивительно, умилительно и промыслительно! Надо присмотреться к этой тете или дяде, которых дети нам предлагают, может быть, устами младенца глаголет истина. Господь как-то подталкивает папу к этой женщине, например.
В такой тяжелой ситуации, когда дети теряют родителей, а мы приводим на их место человека, с которым контакта нет, это ужасно. Поэтому, конечно, должно быть не все равно, как дети реагируют на нашего нового мужа или жену.
Если мы чувствуем, что ребенок выбрал, и этот человек может стать мне дорогим и близким, возможно, это промыслительный путь.
– Обратима ли травма, связанная со смертью? Насколько обратимы ее последствия для ребенка любого возраста?
– Я бы переформулировала этот ход.
Боль делает нас людьми. Радость – это радость. А боль делает нас людьми. Поэтому закрываться от боли – неправильно. Травма плоха только тогда, когда она вытеснена, не прожита.
Я могу сказать из собственного опыта. Приходит человек невероятной деликатности, тактичности, глубины, внутренней красоты, и я могу быть уверена, что у него навалом травм. Он такой, потому что он много чего пережил. Пережил и вышел из этого. Когда у человека есть опыт страдания и его преодоления, он становится мудрее, добрее, сострадательнее, глубже. Боль учит нас жить! Главное – в ней не застрять. Не надо тратить силы на то, чтобы оградить себя или своего ребенка от боли, но нужно быть с ним, ведь ему одному это не под силу. Нужно пройти эту боль насквозь, не по касательной, и выйти к свету, к благодарности, к Богу.
Беседовала Валерия Михайлова
Справка:
Наталия Владимировна Инина – практикующий психолог, руководитель Центра практической психологии и душепопечения при Российском православном университете; сотрудник факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, преподаватель Российского православного университета святого Иоанна Богослова.
Родилась в Москве. В 1994 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, в 2005 году с отличием окончила факультет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова по кафедре психологии личности. Автор курсов «Психология личности», «Психология религии», «Психология веры», «Психологическое консультирование» и др. Читает курс лекций по практической психологии на курсах повышения квалификации клириков г. Москвы при Московской православной духовной академии (МДА).
Разрабатывала и вела на телеканале «Спас» авторскую программу «Точка опоры» (2007–2009 гг.). Автор и соавтор книг «Испытание детством. На пути к себе», «Одеяние души: о красоте Божественной и человеческой».
Смерть близких – всегда тяжела, даже верующим людям, знающим, что это не конец. Не всегда у взрослого человека хватает сил пережить уход кого-то из родных, что же говорить о детях, которых это коснулось. Умерла от болезни мама, в катастрофе погиб любимый папа – как помочь ребенку пройти через эту тяжелую утрату? Что делать, если сами взрослые в шоковом состоянии? Нужно ли малышу идти на похороны? Что делать, если он замыкается, злится на Бога или ищет виноватых? Как жить дальше и не застрять в травме? Об этом Валерия Михайлова поговорила с психологом Натальей Владимировной Ининой, автором книги «Испытание детством».«А ты умрешь? Как же я буду жить, если ты умрешь?» – Наталья Владимировна, давайте начнем с того, как ребенок в принципе воспринимает смерть в малом возрасте. Она существует для него или это некая абстракция? – Соприкосновение со смертью для маленького ребенка – это прикосновение к категориям, совершенно непонятным ему. Вообще, надо начать с того, что маленький ребенок, лет до пяти, мыслит себя сугубо эгоцентрически. Для него мир – это продолжение его самого. Вспомните, как ребенок играет в прятки. Он закрывает ладошками глаза или прячет голову за занавеску и говорит: «Я спрятался, ищите меня». Если он себя не видит, значит, он невидим. Достаточно вспомнить замечательное наблюдение Жана Пиаже, знаменитого швейцарского психолога, которое показывало уровень эгоцентрического сознания маленького ребенка. На вопрос «Есть ли у тебя брат?» малыш отвечал: «Да, у меня есть брат». «А у твоего брата есть брат?» – спрашивал психолог. Ответ был такой: «Нет, у моего брата нет брата». Иными словами, конечно, маленькое сознание воспринимает все как продолжение себя. В этом плане он бессмертен, вечен. Равно как и все те близкие люди, которые рядом с ним находятся. Все, что разрушает это ощущение такой тотальности, гармонии, вечности, достаточно сильно эмоционально окрашено и может вызвать глубокие и долгие последствия. Есть такой голливудский фильм, где рассказывается история женщины, страдающей от раздвоения личности. Психиатр, который с ней работал, обнаружил поразительную связь между ее болезнью и тяжелейшей травмой, пережитой ею в детстве. Умерла ее бабушка, и мама посчитала обязательным присутствие маленькой, шестилетней девочки на похоронах. Ребенок не хотел, боялся и спрятался под домом, в подвале. Но ее обнаружили, насильно вытащили из укрытия и заставили не просто быть на похоронах бабушки, а подойти к ней, мертвой, лежащей в гробу, и ее поцеловать. И с этого момента с ребенком начали происходить странные вещи, которые впоследствии развились в серьезное психическое нарушение. Когда психиатру удалось исцелить давнюю детскую травму, жизнь женщины изменилась, болезнь ушла, вернулась психическая целостность. Бездумное вторжение, без опыта и понимания, в маленький и хрупкий детский мир может быть очень травматичным. Причем вроде бы взрослый человек ничего такого не делает. Например, ребенок спрашивает: «Мама, а ты умрешь?» Он еще не был на похоронах, не столкнулся с темой смерти, никого еще не потерял, но где-то что-то слышал. Ему читали сказки, и в него вошло это понимание конечности жизни, он задается внутренними вопросами, на которые родители не знают, что ответить. Очень часто мне на консультации взрослые задают такие вопросы: «Мой маленький сын спросил меня: «А мы умрем? А как же я буду, если ты умрешь?» Что же мне ответить?» И я говорю: а что вы делаете в такой ситуации? Я, говорит, ушла от ответа. – Разве это неправильно? Если не знаешь, что отвечать? – Конечно, если ты не знаешь, что отвечать, лучше уйти от ответа. Потому что, когда ты начинаешь говорить: «Ну да, мы умрем, нас закопают в землю и съедят черви», – это для психики ребенка катастрофа. Ребенок воспринимает мир невероятно красочно, мышление ребенка очень конкретно. Он очень хорошо представляет себе, как это будет, и испытывает сильнейшие эмоции. Поэтому все зависит от очень конкретной ситуации – какой ребенок, какая ситуация в семье, почему он задает этот вопрос. – Вам ваши дети задавали такой вопрос? Что вы отвечали? – Мой ребенок мне задал вопрос: «А ты умрешь?» Я сказала: «Я буду жить очень долго, ты уже станешь взрослым человеком, уже будешь с бородой, у тебя будут свои дети, а я буду старенькая, мне все надоест, я буду ходить с палочкой, мы сядем, договоримся, и тогда я умру». То есть я облекла ответ в шутку. Строго говоря, не столь важен был мой вербальный ответ, сколь важна интонация и настроение, с которым я говорила об этом. Потому что ребенку, который задается такими сложными внутренними вопросами, очень важно, чтобы взрослый продемонстрировал спокойное к этому отношение. – Если взрослый уверен, то бояться нечего? – Да: раз взрослый человек на эту тему так спокойно реагирует, значит, она нестрашная. Он задает отношение, настроение, общий абрис, связанный с этим вопросом. У ребенка нет устойчивости, нет уверенности в жизни, нет границ – он живет здесь и сейчас, в этом мгновении. И ему очень важно почувствовать через взрослого некоторое ограничение, рамки, которые задает ему взрослый человек, и эту уверенность в завтрашнем дне. Потом эти рамки начнут быть его собственными рамками. Если у родителя – тревога, страх, собственная непроработанность этих вопросов, он передает ребенку не просто какие-то слова, а именно собственную тревогу. – Родителям часто хочется оградить от тяжелых тем – боли, смерти – своих детей: ведь даже в 12-13 лет они еще маленькие, живут в очень счастливом мире… Как вы считаете, это правильно – просто не говорить о смерти? – Это иллюзия. Ребенок задается вопросами жизни и смерти довольно рано, просто он это делает иначе, чем взрослый – более поэтично, философично, романтично. Я бы даже сказала, более религиозно, если мы говорим о религии не как о некой конфессиональной принадлежности, а как о восприятии мироздания как сказки, когда все живое – это чем-то похоже на древнее восприятие мира. Детский психолог и педагог Александр Лобок показал, что вечные вопросы о жизни, о смерти, о вечности, о любви присущи ребенку довольно с раннего возраста – с 6-7 лет. Эти вопросы живут в душе ребенка, но, как правило, взрослые сами боятся этих вопросов, и тем более боятся говорить о них с ребенком. В результате малыш остается одинок в этом своем размышлении. Но если взрослый способен спокойно воспринять подобный детский вопрос и открыто, но адекватно возрасту малыша, говорить с ним об этом, то ребенок испытывает облегчение, ведь он не один пытается пробиться к ответу, а рядом с ним – взрослый. Мне кажется, такие разговоры очень важны, потому что мы таким образом задаем некое общее пространство, формируем доверие во взаимоотношениях между нами и нашими детьми. Доверие – категория сложная. Ребенок-то доверяет, но взрослый – уже не доверяет, миру не доверяет. А в результате – и собственному ребенку, считает, что это с ребенком что-то не так! Если родитель действительно пытается увидеть мир ребенка, сложный и красивый, совсем не примитивный, тогда этот мир ему открывается. А в нем есть и жизнь, и смерть, и боль, и радость. Все, как полагается – как в сказке. Тут Баба Яга, волшебная принцесса, герой, который побеждает зло – все архетипические образы есть в нас с самого детства. «Папа уехал очень далеко…» – Давайте перейдем от теории к практике. В семье умирает кто-то близкий… Естественно, взрослый человек старается оградить своего ребенка от этой боли. Какие тут могут быть ошибки? – Допустим, в семье умирает бабушка, дедушка, не дай Бог, кто-то из более молодых людей, например, папа. И очень часто взрослые выбирают такую стратегию: говорят маленькому ребенку, что папа уехал очень далеко. Я вам дам немножко другой пример, касающийся не такой трагической истории, как смерть, хотя внутренне она может так же болезненно восприниматься. Например, у ребенка неродной отец, неродная мать. Или вообще ребенок приемный. Родители тщательно скрывают от него степень родства. Очень много историй, которые показывают, до какой степени в психотерапевтическом плане это ошибочно… Вот маленького ребенка приводят с очень простыми проблемами: он плохо запоминает информацию, не слушается. С ним психолог, как правило, рисует, и малыш через рисунки говорит о своих переживаниях. Вот он рисует темный лес, сквозь который он идет, продирается. – А куда ты идешь? – Я ищу маму, – говорит ребенок. Психолог спрашивает у родителей: «Он приемный?» «А откуда вы узнали? Мы этого никому не говорим!» Дело в том, что внутри ребенок чувствует какую-то правду о тебе. Эмоционально, на уровне переживаний он чувствует, что что-то не так. А ему пытаются сказать, что все отлично. Таких историй очень много. Я говорила со взрослыми людьми, у которых были тяжелейшие последствия такого рода ситуации: психосоматические проблемы, социофобия, тяжелые неврозы – все это наворачивается, как снежный ком. – То есть взрослые пытаются оградить, не травмировать ребенка… – А травмируют его еще больше! Правда, высказанная грамотно, никогда не травмирует. Ложь травмирует гораздо сильнее. Потому что ложь мы чувствуем не мозгами, а сердцем. – Как тогда правильно говорить с маленьким ребенком о смерти? – В разговоре о смерти религия во все времена играла особую роль, тем более с ребенком, картина мира которого сплошь мифологическая, сказочная. Можно сказать: «Папа ушел к Богу, он смотрит на тебя с небес, он молится о тебе, он твой друг, он жив, ты можешь с ним говорить». А как о смерти скажет атеист? Для него человек умер, человека больше нет, связь утрачена навсегда. А дальше можно добавить в соответствии с атеистическим восприятием мира: человек превратится в траву, червячков, бабочек, произойдет круговорот веществ в природе… Для ребенка такой ответ – это ужас! Для него катастрофа – расстаться навсегда. Для его сознания мысль о том, что мамы или папы не будет больше никогда, невыносима. Однажды ко мне на консультацию привели удочеренную девочку, у которой умерла мама. Ребенка привели потому, что она агрессивная, не дружит с детьми, враждебна ко всем. Я смотрю на нее и понимаю: этот семилетний ребенок
 →
→